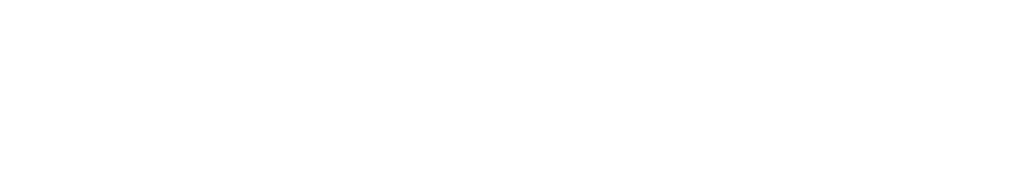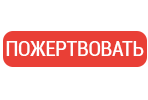Почему в казачьей станичной общине не было нищих? Кто помогал женщине если ее муж умирал на войне? Если в станицах были инвалиды, то кто о них заботился? Сейчас существует понятие «социально незащищенные слои населения». Прежде так не говорили, но люди попадали в аналогичные ситуации. Продолжаем публиковать статью кандидата исторических наук Антона Ивановича Зудина «Вдовы, сироты, калеки, нищие в социальной структуре Кубанского Казачества», в которой рассматривается положение в казачьем социуме каждой из этих социальных категорий. Описывается существовавшая система поддержки, общественная и государственная, а также связанная с этими категориями, система традиционных взглядов и представлений. С разрешения автора, публикуем статью с небольшими купюрами, разбив ее тематически на части. Первая публикация была посвящена вдовам. Эта часть посвящена сиротам.
Сироты. Категория, характеризуемая как социально ущербная, и вместе с тем социо-возрастная, также свойственная казачьему социуму как массовое явление на протяжении всей его истории.
Терминология для обозначения сирот на территории Кубани в целом характеризуется однооб- разием. Как правило, респондентами выделяются две группы сирот: круглые сироты и получившие наименование полусирот (пол-сироты). Чаще всего круглыми сиротами называли детей, не имевших обоих родителей. Соответственно, ребенок, не имевший кого-нибудь одного из них, именовался «полусиротой». Очень часто термин «круглая сирота» употреблялся также по отношению к детям, лишившимся только матери. Тем самым подчеркивалась исключительная роль матери, превосходящая воспитательные функции отца, особенно в раннем детском возрасте. Отсутствие отца также маркировалось в лексике кубанских каков терминами безбатченки, безотцовщина. Частое употребление этих наименований в негативном контексте, очевидно, было связано с представлением о высокой вероятности ненормативного поведения подростка при отсутствии отцовской опеки.
В условии относительно нормальных социально-экономических обстоятельств в редких случаях оставшиеся без родителей дети находились без призрения станичного общества. По традиционным для восточных славян представлениям, функцию родительского воспитания должны были брать на себя крестные родители («вторые родители»). Чаще на их месте также оказывались ближайшие родственники сироты, как правило, родной дядька или тетка, дедушка с бабушкой. В дореволюционный период в этой ситуации оформлялось опекунство, согласно которому родительское имущество продавалось, а деньги от продажи поступали на сохранение опекуну и возвращались сироте по достижении совершеннолетнего возраста и отделении от семьи опекуна-родственника. При живой матери опекунство, как правило, не оформлялось. Однако в некоторых случаях вдова теряла право распоряжаться семейным имуществом, в основном по причине вторичного брака. Совершенно устранялись от попечительства вдовы, вышедшие замуж за иногородних, как не обладающих правом владения юртовыми наделами своих приемных детей, принадлежащих казачьему сословию.
Для сирот, не имеющих близкой или способной на их попечение родни, как правило, на станичном сходе назначались опекуны из сторонних лиц. В основном ими являлись наиболее авторитетные, нравственные и экономически состоятельные станичники. Не занимаясь вопросами воспитания сирот, они были обязаны сохранить капитал от проданного имущества до достижения последними совершеннолетия. Более того, таким опекунам вменялось в обязанность отдавать эти средства в оборот на приращение процентов и преумножение, тем самым, сиротского капитала. На станичном сходе также определяли опекуну плату за труд. Как правило, распоряжение сиротским капиталом всей станицы доверяли одному или двум лицам. А с 1893 г. согласно циркулярному предписанию станичные сходы назначали трех опекунов — одного по имуществу и двух по капиталу. Согласно Положению об общественном управлении станиц казачьих войск, Высочайше утвержденному 3 июня 1891 года, станичному атаману и общественному сбору вменялось в обязанность наблюдение за действиями опекунов и в случае недобросовестного выполнения ими своих обязанностей их замену.
Не имеющие близких родственников сироты, а также дети многодетных вдов с восьмилетнего возраста отдавались в услужение зажиточным казакам: мальчики — в работники, а девочки становились нянями малолетних детей («Няньчить дитей наймали на год. За год давали тёлочку, одевали, кормили. Хлопцы были подпасками. Целый год жили. Брату тогда было лет пятнадцать…»).
Собственно усыновления, как правило, удостаивались безродные сироты, не имеющие никакого имущества, незаконнорожденные и взятые на воспитание из беднейших многодетных семей (вскормленники, приёмыши). У кубанских казаков усыновление таких детей считалось богоугодным делом. Многодетные и малоимущие семьи охотно отдавали детей на пропитание с последующим усыновлением зажиточным и бездетным казакам. В этом случае сирота получал фамилию усыновившего его казака и уравнивался в правах с другими членами семьи.
В более привилегированном положении находились сироты — дети казачьих офицеров, которые должны были воспитываться «прилично состоянию каждого». На сирот, живущих при матерях-вдовах или опекунах, выделялись денежные пособия из сумм войскового приказа общественного призрения. Сироты-подростки, кроме того, получали образование на казенный счет или счет частных благотворителей. В 1884 г. был открыт «Войсковой приют для девочек», сословно-привилегированное учреждение, находившееся в управлении Ведомства учреждений Императрицы Марии Феодоровны. В него принимались девочки-сироты 8–14 лет из войсковых семей. Воспитанницы войскового приюта обучались шелководству, ведению домашнего хозяйства и рукоделию. Для мальчиков-казаков было учреждено убежище Александро-Невского благотворительного общества.
Срок опекунства истекал с достижением сироты-хлопца семнадцатилетнего возраста и выдачей в замужество девушки. В первом случае молодому казаку возвращалось его имущество: на выделенном для него пае ставилась хата и устраивалось хозяйство, либо он получал в распоряжение сохранившееся родительское имущество. Дальнейший жизненный сценарий складывался следующим образом. По воспоминаниям казака ст. Кавказской Ф.И. Елисеева сироты по причине своей бедности обычно не привлекались на действительную службу и оставлялись станичным сбором в станице в качестве табунщиков, поскольку на снаряжение в кавалерию требовались значительные расходы. У самого Ф. И. Елисеева, в бытность его хорунжим, одностаничник «круглая сирота» Кирей Мазанов состоял на службе денщиком. В некоторых случаях снаряжение сироты на службу происходило на часть средств от проданного прежде родительского имущества или же на общественные средства. Женитьба таких казаков по причине их бедности и одиночества происходила, как правило, на девушках примерно такого же состояния. Желанной партией они могли являться и для семей, где отсутствовали мужчины (кормилец или сыновья). В этом случае жених переходил на жительство в дом невесты. Наиболее употребляемым термином на Кубани в отношении этих казаков было слово «приймак», или же использовалось выражение «пойти в зятья».
Поскольку на девушек казачьего сословия земля не выделялась, то опекунство над сиротой казачкой заканчивалось с выдачей ее в замужество. Её имущество в этом случае возвращалось в виде приданого: белья, хозяйственной утвари, крупного и мелкого скота.
Сама свадьба сироты отличалась особыми ритуалами. Один из необходимых компонентов сиротской свадьбы на Кубани — посещение кладбища невестой с целью просить у умерших родителей благословения. Время посещения могло приходиться на вечер накануне свадьбы, но чаще это происходило утром в субботу после приглашения гостей на свадьбу, «пад дивишник» или утром в день венчания, «на заре» («зарёю»). Невесту на кладбище сопровождали ее подруги. Стоя у могилы родителей, невеста просила у них благословения на брак. На могиле она оставляла свадебные «шишки» как приглашение на свадьбу. Обращение к умершим родителям происходило в форме плача- голошения, включающего в себя клишированные поэтические обороты: «Да радимая мая мамачка,/ Да вставайти ж да давайти парядачку,/ Да мне ж ни нужна ваше ни злата ни срибро,/ Да мне нужна ваше святоя благаславения…». В ряде населенных пунктов Кубани, преимущественно в линейных и закубанских станицах, исполнение причитаний происходило на фоне звучания «сиротской» свадебной песни. Иногда ее исполнение осуществлялось также по пути на кладбище.
Отмечается приуроченность «сиротских» песен также и к другим моментам свадьбы. Ими могут быть различные ритуалы прощального характера вечером накануне свадьбы или утром свадебного дня. Например, известную в Закубанье «сиротскую» песню «Сасна мая сасё- нушка…» в ст. Губской пели по пути на кладбище и в момент ожидания приезда жениха, когда невеста «сидела на посаде», т.е. в святом углу за столом. В той же ст. Губской «сиротская» песня исполнялась, «кагда заплетают сирату». А в ст. Бесстрашной это происходило при встрече невесты на воротах, в момент ее возвращения домой от жениха в день проведения «вечера» (девишника).
Перед приездом жениха за невестой-сиротой, она получала благословение от воспитавших ее людей, крестных родителей или других близких и родственников. В ст. Смоленской сироту со двора выводила близкая ей пожилая женщина со словами «Бог благословит и я благословляю». Дальнейший ход свадьбы протекал по принятому в станице традиционному сценарию.
Особый статус сироты отражался в традиционном отношении станичного общества к «сиротской доле». Непростительным грехом считалось причинение сироте какой-либо обиды. По своей тяжести этот грех приравнивался к оскорблению родителей, вдовы («Ни абить вдаву, ни абить сирату, ни абить аца с матерью»). «Падбирёшь ты сиротские слёзы», — говорили обидчику сироты. Большую роль в формировании и поддержании такого отношения к сиротам и другим обделенным категориям станичников играло местное духовенство.
Характер подлинной трагедии сиротство в казачьей среде приобрело в первой половине ХХ столетия в связи с известными событиями расказачивания, коллективизации, голодомора 1930-х гг. Тысячи детей высланных из родных станиц, убитых или погибших во время голода казаков оказались брошенными на произвол судьбы. В условиях экономической разрухи не каждый родственник мог позволить принять в свою семью одинокого сироту. Колхозы пытались бороться с беспризорностью путем создания в станицах детских домов. По воспоминаниям такого «детдомовца», старожила ст. Дядьковской А.М. Мисько, в станице был устроен детский приют в доме высланного зажиточного казака, где находили прибежище во время голодомора до шестидесяти местных ребятишек. «И в трыдцать пятом году решилы: уже мы взросли сталы. Решилы роздать нас. У кого родствэнныкы, хто… Богато бралы, у кого диты вымэрлы. Як за сына, за дочку́… Мэнэ двоюродный брат взял. Вин — Мисько, и я — Мисько». По достижению совершеннолетия такие сироты выделялись в самостоятельные домохозяйства.
Несколько слов в рамках рассматриваемой темы следует сказать и об особой категории лишенных отцов детей, а именно незаконнорожденных. Достаточно разнообразная терминология, используемая на Кубани в отношении этой категории: ба(й)стрюки, найдёныши, нагулянные, непутние, выблядки, — свидетельствует об ее анормальности и низком статусе. Обусловлено это было, безусловно, негативным отношением в традиционном обществе к добрачным связям девушки, получавшей в таких случаях название «покрытки». В дореволюционный период такие девушки подвергались общественному порицанию, вплоть до изгнания из станицы. Однако традиционное отношение к самим незаконнорожденным характеризовалось как двойственное. Несмотря на обидные прозвища, которые могли сопровождать этих детей всю дальнейшую жизнь, отношение станичников было в целом сочувственным: «Этава дитёнка жалели, васпитывали… Панимаешь, младениц! Дитё ни при чём. Ни в коим случии абидить ево нильзя. Ангилёнак». Как правило, противоположное к ним отношение проявлялось лишь на уровне одной возрастной группы, в детстве при общении со сверстниками. Такие дети причислялись к казачьему сословию, даже если они были «блудно нажиты» от иногородних, и наделялись равными с другими станичниками правами. В этом проявлялся значительный демократизм казачьих обществ в отличие от великорусских общин, где незаконнорожденный и его мать, кроме общественного порицания, зачастую становились изгоями и лишались какой-либо поддержки60.
На Кубани в большинстве случаев такие дети получали фамилию деда по матери и отчество от крёстного отца в том случае, если оставались жить при матери, либо же усыновлялись кем-нибудь из станичников. Ряд респондентов в кубанских станицах также отмечают значительное смягчение в отношении станичников к покрыткам и незаконнорожденным в советский период по сравнению с предреволюционным временем.